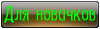Александр Макаренков
Наш костерок :: НАШЕ ТВОРЧЕСТВО :: Проза
Страница 1 из 1
 Александр Макаренков
Александр Макаренков
ЯБЛОКИ
Александр Макаренков
Год выдался яблочным. В сентябре деревья, словно спелые девки, расслабленно обнажили прелести своих, налитых свежим соком, тел. Из каждого сада долетает дурманящий, сладко-кислый и, все-таки, липкий, манящий запах зрелых плодов. Они призывно поблескивают на ветвях. Солнечные лучи бесцеремонно играют с их непристойно упругой кожей. Налитой, почти прозрачной, будто груди молодух. Того гляди – от напряжения кожица лопнет и особенный, ни с чем несравнимый запах нежного небесного молока заполонит всё пространство сентября. Им пропитаются ветер, облака, недальний лесок, что начинается сразу за девятиэтажками, и вон тот куст боярышника, что пыжится красными цыпками ягод. Ему завидно. Ему неловко. Но, несмотря ни на что, он пытается обратить на себя внимание. Остановишься рядом, – уловишь едва различимый запах. Но это – пыль. Она прочно въелась в алую поверхность пупырышек и резную зелень листвы. Вместо того, чтобы наполняться солнечным теплым молоком эти ягоды напыщенно предполагают, что они яркие пупочки земли. Значит – заметнее. Следовательно – красивее и привлекательнее. Увы! Яблони в этот год перещеголяли всё и всяк! Они подготовились к осенней церемонии так, как в старину готовились невесты к свадьбе. Успели себя умаслить, набраться сил, сумели расцвести и вызреть так, что сложно сделать выбор – к которому плоду протянуть руку. Да и есть-то их неловко. Хочется стоять вот так подле дерева и любоваться. Не упомню даже, когда такое бывало.
Мы идем по солнечному лучу. Он тонкой, удобной, нескончаемой тропкой ложится под ноги. Ни ты, ни я не замечаем под ногами неба. И облаков. Мы не видим далеких городков нашей юности с их квадратно-гнездовым устройством улиц, с единственной площадью, что стоит в каре под указующей рукой каменного вождя… У нас были свои города, свои улочки, свои дворы, палисадники. А названия заставляли улыбаться и поражаться витиеватым придумкам градоначальников: Советские, Строителей, Маркса, Красноармейские, Вокзальные, Транзитные… Но все это позади. В юности. Сейчас под нами солнечная тропа. В моей руке – твоя теплая, ласковая ладошка. Я поднимаю руку, касаюсь сторожко, слегка губами. Потом целую пальцы. Ты вздрагиваешь от неожиданности. Солнце не слепит. Ласкает. Бережно, трепетно касается наших глаз, плеч, тел. Согревает. Наконец-то, мы нашли друг друга. Через тысячелетия прошагали, через жизни, чтобы отыскаться, чтобы вот так – взяться за руки и, доверив друг другу жизни, пойти по лучу туда, где всегда тепло. Где яблоки радуются своему празднику. И мы на нем не гости. Мы – его часть. Нет, не помню, чтобы мог побывать на карнавале яблок. Это – впервые. Как жизнь…
Александр Макаренков
Год выдался яблочным. В сентябре деревья, словно спелые девки, расслабленно обнажили прелести своих, налитых свежим соком, тел. Из каждого сада долетает дурманящий, сладко-кислый и, все-таки, липкий, манящий запах зрелых плодов. Они призывно поблескивают на ветвях. Солнечные лучи бесцеремонно играют с их непристойно упругой кожей. Налитой, почти прозрачной, будто груди молодух. Того гляди – от напряжения кожица лопнет и особенный, ни с чем несравнимый запах нежного небесного молока заполонит всё пространство сентября. Им пропитаются ветер, облака, недальний лесок, что начинается сразу за девятиэтажками, и вон тот куст боярышника, что пыжится красными цыпками ягод. Ему завидно. Ему неловко. Но, несмотря ни на что, он пытается обратить на себя внимание. Остановишься рядом, – уловишь едва различимый запах. Но это – пыль. Она прочно въелась в алую поверхность пупырышек и резную зелень листвы. Вместо того, чтобы наполняться солнечным теплым молоком эти ягоды напыщенно предполагают, что они яркие пупочки земли. Значит – заметнее. Следовательно – красивее и привлекательнее. Увы! Яблони в этот год перещеголяли всё и всяк! Они подготовились к осенней церемонии так, как в старину готовились невесты к свадьбе. Успели себя умаслить, набраться сил, сумели расцвести и вызреть так, что сложно сделать выбор – к которому плоду протянуть руку. Да и есть-то их неловко. Хочется стоять вот так подле дерева и любоваться. Не упомню даже, когда такое бывало.
Мы идем по солнечному лучу. Он тонкой, удобной, нескончаемой тропкой ложится под ноги. Ни ты, ни я не замечаем под ногами неба. И облаков. Мы не видим далеких городков нашей юности с их квадратно-гнездовым устройством улиц, с единственной площадью, что стоит в каре под указующей рукой каменного вождя… У нас были свои города, свои улочки, свои дворы, палисадники. А названия заставляли улыбаться и поражаться витиеватым придумкам градоначальников: Советские, Строителей, Маркса, Красноармейские, Вокзальные, Транзитные… Но все это позади. В юности. Сейчас под нами солнечная тропа. В моей руке – твоя теплая, ласковая ладошка. Я поднимаю руку, касаюсь сторожко, слегка губами. Потом целую пальцы. Ты вздрагиваешь от неожиданности. Солнце не слепит. Ласкает. Бережно, трепетно касается наших глаз, плеч, тел. Согревает. Наконец-то, мы нашли друг друга. Через тысячелетия прошагали, через жизни, чтобы отыскаться, чтобы вот так – взяться за руки и, доверив друг другу жизни, пойти по лучу туда, где всегда тепло. Где яблоки радуются своему празднику. И мы на нем не гости. Мы – его часть. Нет, не помню, чтобы мог побывать на карнавале яблок. Это – впервые. Как жизнь…

Александр Гуленко- Сообщения : 639
Дата регистрации : 2009-10-15
Возраст : 64
Откуда : Ставрополь
 Re: Александр Макаренков
Re: Александр Макаренков
от автора:
Несмотря на профессию - занимаюсь отнюдь не преподаванием изобразительного искусства. Иллюстрирую книги, делаю обложки CD-дисков, езжу по фестивалям АП, где провожу творческие мастерские или работаю в жюри, выступаю с концертами, выставляю картинки на различных выставках.
Автор книг стихотворений и прозы: "Монологи межсезонья", "Лабиринт"М", "Двенадцать писем к Еве", "Когда умирает снег", "Утренний свет", "Путешествие", "Праздничная женщина", "Дюжина", "Накануне Рождества".
Автор дисков песен: "Рядовой", "Отражения", "Сентябрь", "Белая песня", "Однажды взрослеешь...", "Песня для Птицы", "Весенняя bossa-nova", "Проснуться в пять утра", "Золотой мотылёк"(песни друзей), "Здесь – на краю земли"...
Член Союзов журналистов, писателей, международной федерации художников России

Несмотря на профессию - занимаюсь отнюдь не преподаванием изобразительного искусства. Иллюстрирую книги, делаю обложки CD-дисков, езжу по фестивалям АП, где провожу творческие мастерские или работаю в жюри, выступаю с концертами, выставляю картинки на различных выставках.
Автор книг стихотворений и прозы: "Монологи межсезонья", "Лабиринт"М", "Двенадцать писем к Еве", "Когда умирает снег", "Утренний свет", "Путешествие", "Праздничная женщина", "Дюжина", "Накануне Рождества".
Автор дисков песен: "Рядовой", "Отражения", "Сентябрь", "Белая песня", "Однажды взрослеешь...", "Песня для Птицы", "Весенняя bossa-nova", "Проснуться в пять утра", "Золотой мотылёк"(песни друзей), "Здесь – на краю земли"...
Член Союзов журналистов, писателей, международной федерации художников России


Александр Гуленко- Сообщения : 639
Дата регистрации : 2009-10-15
Возраст : 64
Откуда : Ставрополь
 Re: Александр Макаренков
Re: Александр Макаренков
Александр Макаренков
БЕЛАЯ КОФТА
Отец приснился лишь однажды. После его ухода ощущение брошенности не покидало. Даже несмотря на то, что я уже закончил институт и покончил с собственной семейной жизнью. Одностороннее сиротство пронзило глубоко. Для меня оно оказалось тождественным воткнутому под ребра трехгранному русскому штыку. Такая рана, как правило, заживает слишком долго. Болит мучительно. Не оставляет человека до самой смерти. Особо ныла она, когда видел, что приятелям есть с кем посоветоваться, поговорить, просто -- в выходной или праздник -- выпить по рюмочке. Для меня эти царственные подарки ушли в мир, который с некоторых пор называю «миром после первого развода». С той поры не встречал отца ни наяву, ни в блужданиях по сновидениям.
Впрочем, сны мне видятся редко. В них всегда присутствует некая странность. Как правило, это цветные фантасмагории и трансформации красок и геометрических форм. Один цвет постепенно перекатывается, переливается в другой. Вместе с ним искажается треугольник. Становится шаром, ромбом, кубом с разноцветными гранями. Лишь мгновение фиксируется в сознании. Не успеет устояться, чтобы умом понять, что сие значит, как тут же набегает свежая волна прилива. Подернет рябью. Заставит поёжиться. И -- пошло-поехало… Сюжеты появились позже, уже после второго развода и третьей женитьбы. Тогда-то отец и пришел…
Он стоял в старенькой своей белой кофте. Пуговицы от ворота -- до самого низа. Я даже удивился: несмотря на годы, кофта не просто не износилась -- показалась свеженькой. Только что связанной мамой.
Зиму гидромет обещал суровую. Мама расстаралась, нашла серьёзную шерсть для утепления семьи. Я в небольшой очереди оказался первым. Но когда свитер крупной вязки был предложен для примерки, я решительно отказался участвовать в этом предприятии. По моим ощущениям, он был связан хуже, чем из крапивы. Горло шерсть жестоко раздирала остриями колючек. Иглы впивались в тело даже через легкую рубаху. Уговоры и просьбы по поводу холодной зимы и спасения в тёплых вещах привели лишь к конфронтации. К жесточайшему отторжению. В отличие от меня отец свою кофту нахваливал. Всячески старался подчеркнуть тепло маминой вязки. И невероятное удобство «при эксплуатации». Меня положительные эмоции отвращали от свитера ещё пуще. Только теперь ясно, отец тоже прошивался шипами. Вероятно, тоже испытывал дискомфорт. Но -- терпел. Допускаю -- желал подзадорить меня. Или -- не хотел расстроить маму. Она потратила множество вечеров на составление выкройки, высчитывание петель, ковыряние спицами при не слишком уж яркой лампочке после изнурительной работы на заводе. При этом успевала приготовить ужин и рассказать мне, что ужинать семейно -- это здорово и должно быть традиционно даже в той семье, которая у меня будет.
Она терпеливо ждала отца с работы. Никто не мог сказать когда и в каком состоянии он переступит порог. Если аврал на буровой – вваливался полуживой. С ним вместе в барак врывались запахи мазута, ветоши, пота, смазки, бензина. Зимой они сдабривались легким морозным паром и дымком костра. Весной разрушались иногда взмахом первых пролесков. Папаня умудрялся собрать крохотный букетик робкого тепла. Мама счастливо улыбалась и твердила: «Надо бы вазочку купить для таких малышей…» И после суетных поисков доставала из стола малиновский стакан, в котором жили некоторое время белые, на тонких зеленых ножках, соцветия.
Порой батя приходил навеселе. Определение «подшофе» я узнал гораздо позже. И вечер не становился томным. Наоборот даже. Отец расслаблялся, становился разговорчив. Принимался подначивать маму. Она ершилась, поскольку не шибко любила, когда её подкалывают. Однако в какой-то момент наступала фаза разомкнутости цепи. Он вдруг умолкал. По ему одному понятным причинам. Словно пленка в магнитофоне заканчивалась. Упирался в телевизионные новости. Ругался тихонько на правительство, клял мировой кризис, проклятых капиталистов с коммунистами вкупе. Потом уходил спать…
Память человеческая -- штука закрученная и непростая. Она насквозь пронзает избирательностью, поражает точностью деталей, которые возникают, казалось бы, ниоткуда. Она удостаивает внимания совсем не то, к примеру, от чего ты мог когда-то плакать взахлеб. Или -- смеяться. По прошествии времени смешное уже не кажется таковым. Грустное подталкивает к улыбке. Темное -- к светлому. И минуты давнего расставания с тонким, дорогим и любимым выводят на лице улыбку. В душе возникает прилив тепла и бесконечного счастья. Ты, сегодняшний, вдруг понимаешь: то расставание было лишь предтечей новой встречи. Преддверием невероятных эмоций, которых ты не ждал!
Именно теперь я вдруг вижу отца не подшофе или усталого, замотанного холодом, штангами, ключами и скважинами. Он -- в нашей полуночной кухне. Вокруг -- мутно-желтый свет лампочки в шестьдесят свечей. Батя сидит на белом табурете у стола. Курит привычную «Приму» -- адское зелье, как называла его порой бабушка. Дым потягивается, расправляется, висит некоторое время над головой и добавляет мутности в желтость. Будильник уже оставил позади день и вечер. Превратил их во вчера. Старательно, без напряжения взялся за перемалывание сегодня. Мороз зарисовал стекла в доме. Чтобы увидеть, что находится снаружи, необходимо сперва «продышать» круглое окошечко в ледяных узорах. Потом приложить палец и чуть-чуть, всё выдыхая теплый воздух, проскрести морозную вязь, увеличить обзор. И грустно понять: на улице пугающая темнота, редкие огоньки фонарей и скрипучий снег. В такую погоду нам разрешено не бегать «до ветра». Для этого годится ведро с помоями. Мне через неделю стукнет семь. Прихожу в кухню. В дым. В тишину. Под раковиной стоит заветное ведро. В нем плавают луковичная шелуха, папины окурки, яичная скорлупа, конфетные фантики, обрывки газет… Мало ли чего ещё там плавает. И совсем неизвестно, что утонуло. Аккуратно журчу, чтобы брызги не попали на пол. Не то -- тряпку в руки и -- вперед. Дело сделано без брызг. Гордо оборачиваюсь. Папаня делает затяжку. Окурочек занимается красным. Кажется, секунда-другая и огонек чиркнет по желто-коричневым пальцам, по обкуренным ногтям. Мне становится больно от мысленного ожога. Дыхание застывает в груди. Но отец втыкает окурок в тяжелую хрустальную пепельницу -- подарок каких-то знакомых. Вздыхает:
-- Иди, ложись. Я тоже уже скоро…
На светло-седой обложке толстенной книги, батя дошел ее до середины, размашисто значится «Джозеф Конрад». Имя и фамилия – черным, а вот заглавные буквы -- красные.
Послушно иду в постель. За стенкой мама смотрит свои сны. Я закрываю глаза и надеюсь на сны собственные. В этот миг дверь щелкает язычком английского замка. Отец сбегает по крыльцу в морозец. Поскрипывет снег под ногами. Звук уводит за угол дома. В «домик» из серых досок. Отец споро вернется. Принесет с собой немного прохлады. Правда она мгновенно распластается в тепле наших двух комнат с картонными стенами. Останется лишь маленькая заплатка памяти о свежести. Но и она вскоре исчезнет под ластиком сна. Папаня нырнет под мамин бочок. Наверное, он тоже хочет увидеть ночные сюжеты. Свои собственные. Я думаю: «Почему нельзя смотреть вместе один и тот же сон?» Вопрос остается без ответа. Ночь качает мою лодку. Плыву куда-то вперед. В пугающую и интересную неизвестность. Скоро придет утро. В суете сборов на работу никто не заметит, что мы повзрослели. Ровно на одну ночь.
-- Ты нисколько не изменился за двадцать «с хвостиком» лет, -- шепчу отцу. Он молчит, но я чувствую его ответ. Мне не нужно слов. Они раздаются где-то внутри:
-- Здесь ничего не меняется так быстро, как у вас…
Он знает, что я уже пережил его по земному зимоисчислению. Но это лишь календарные условности. Есть нечто иное. Понять его пока не дано.
-- Рано. Рано еще, -- отдается во мне. И продолжается: Самое главное -- я рад за тебя.
Он поправляет волосы на лбу. Пальцы, которые, как мне казалось, предназначались для сигарет, совершенно не желто-коричневые. И даже привычного мозоля от авторучки на среднем -- нет. Дымка сна тает. С ней -- несколько голубых деревьев в отдалении, дорога под ними, небольшой пруд – невероятно похожий на пруд детства, трава позванивает блестками росы. «Мне пора», -- шепчет лишь глазами отец. В пространстве некоторое время брезжит колючая, словно крапива, белая кофта с пуговицами от ворота до самого низа…
Солнце полосует по глазам. Рука затекла и замерзла. Кажется, стукни -- зазвенит. Прячу ее под одеяло. Распахиваю веки и понимаю: на губах еще остался призрак теплой улыбки. Поднимаюсь потихоньку. Иду в кухню. Она совершенно не такая, как в детстве. Она наша -- с колокольчиками под потолком, с архангелогородской птицей счастья, всякими милыми мелочами по полочкам… Достаю из холодильника и режу сыр. Рядом с ним на блюдечко помещаю пару ломтиков лимона. Варю кофе. Расставляю на подносе чашки, блюдце, глиняную турку -- напиток подернут легкой пенкой. В глине из Афона у кофе особый привкус и аромат. И еще это -- признак неторопливости. Добавляю на поднос два бокала. В них -- «три звездочки» , на один глоток… Несу в комнату.
Там я легким поцелуем вырву жену из объятий того самого Морфея, который служит нашим разлучником на ночь. Она учует запах кофе еще на грани сна и яви. Еще за задернутыми шторками век и вуалью ресниц. Распахнет взгляд в сегодняшний мир. Обрадуется солнцу и новому дню. Удивится коньячным переливам в бокалах. Улыбнется и согласно кивнет на моё:
-- Но ведь мы в России…
Ноябрь-декабрь 2009
БЕЛАЯ КОФТА
Отец приснился лишь однажды. После его ухода ощущение брошенности не покидало. Даже несмотря на то, что я уже закончил институт и покончил с собственной семейной жизнью. Одностороннее сиротство пронзило глубоко. Для меня оно оказалось тождественным воткнутому под ребра трехгранному русскому штыку. Такая рана, как правило, заживает слишком долго. Болит мучительно. Не оставляет человека до самой смерти. Особо ныла она, когда видел, что приятелям есть с кем посоветоваться, поговорить, просто -- в выходной или праздник -- выпить по рюмочке. Для меня эти царственные подарки ушли в мир, который с некоторых пор называю «миром после первого развода». С той поры не встречал отца ни наяву, ни в блужданиях по сновидениям.
Впрочем, сны мне видятся редко. В них всегда присутствует некая странность. Как правило, это цветные фантасмагории и трансформации красок и геометрических форм. Один цвет постепенно перекатывается, переливается в другой. Вместе с ним искажается треугольник. Становится шаром, ромбом, кубом с разноцветными гранями. Лишь мгновение фиксируется в сознании. Не успеет устояться, чтобы умом понять, что сие значит, как тут же набегает свежая волна прилива. Подернет рябью. Заставит поёжиться. И -- пошло-поехало… Сюжеты появились позже, уже после второго развода и третьей женитьбы. Тогда-то отец и пришел…
Он стоял в старенькой своей белой кофте. Пуговицы от ворота -- до самого низа. Я даже удивился: несмотря на годы, кофта не просто не износилась -- показалась свеженькой. Только что связанной мамой.
Зиму гидромет обещал суровую. Мама расстаралась, нашла серьёзную шерсть для утепления семьи. Я в небольшой очереди оказался первым. Но когда свитер крупной вязки был предложен для примерки, я решительно отказался участвовать в этом предприятии. По моим ощущениям, он был связан хуже, чем из крапивы. Горло шерсть жестоко раздирала остриями колючек. Иглы впивались в тело даже через легкую рубаху. Уговоры и просьбы по поводу холодной зимы и спасения в тёплых вещах привели лишь к конфронтации. К жесточайшему отторжению. В отличие от меня отец свою кофту нахваливал. Всячески старался подчеркнуть тепло маминой вязки. И невероятное удобство «при эксплуатации». Меня положительные эмоции отвращали от свитера ещё пуще. Только теперь ясно, отец тоже прошивался шипами. Вероятно, тоже испытывал дискомфорт. Но -- терпел. Допускаю -- желал подзадорить меня. Или -- не хотел расстроить маму. Она потратила множество вечеров на составление выкройки, высчитывание петель, ковыряние спицами при не слишком уж яркой лампочке после изнурительной работы на заводе. При этом успевала приготовить ужин и рассказать мне, что ужинать семейно -- это здорово и должно быть традиционно даже в той семье, которая у меня будет.
Она терпеливо ждала отца с работы. Никто не мог сказать когда и в каком состоянии он переступит порог. Если аврал на буровой – вваливался полуживой. С ним вместе в барак врывались запахи мазута, ветоши, пота, смазки, бензина. Зимой они сдабривались легким морозным паром и дымком костра. Весной разрушались иногда взмахом первых пролесков. Папаня умудрялся собрать крохотный букетик робкого тепла. Мама счастливо улыбалась и твердила: «Надо бы вазочку купить для таких малышей…» И после суетных поисков доставала из стола малиновский стакан, в котором жили некоторое время белые, на тонких зеленых ножках, соцветия.
Порой батя приходил навеселе. Определение «подшофе» я узнал гораздо позже. И вечер не становился томным. Наоборот даже. Отец расслаблялся, становился разговорчив. Принимался подначивать маму. Она ершилась, поскольку не шибко любила, когда её подкалывают. Однако в какой-то момент наступала фаза разомкнутости цепи. Он вдруг умолкал. По ему одному понятным причинам. Словно пленка в магнитофоне заканчивалась. Упирался в телевизионные новости. Ругался тихонько на правительство, клял мировой кризис, проклятых капиталистов с коммунистами вкупе. Потом уходил спать…
Память человеческая -- штука закрученная и непростая. Она насквозь пронзает избирательностью, поражает точностью деталей, которые возникают, казалось бы, ниоткуда. Она удостаивает внимания совсем не то, к примеру, от чего ты мог когда-то плакать взахлеб. Или -- смеяться. По прошествии времени смешное уже не кажется таковым. Грустное подталкивает к улыбке. Темное -- к светлому. И минуты давнего расставания с тонким, дорогим и любимым выводят на лице улыбку. В душе возникает прилив тепла и бесконечного счастья. Ты, сегодняшний, вдруг понимаешь: то расставание было лишь предтечей новой встречи. Преддверием невероятных эмоций, которых ты не ждал!
Именно теперь я вдруг вижу отца не подшофе или усталого, замотанного холодом, штангами, ключами и скважинами. Он -- в нашей полуночной кухне. Вокруг -- мутно-желтый свет лампочки в шестьдесят свечей. Батя сидит на белом табурете у стола. Курит привычную «Приму» -- адское зелье, как называла его порой бабушка. Дым потягивается, расправляется, висит некоторое время над головой и добавляет мутности в желтость. Будильник уже оставил позади день и вечер. Превратил их во вчера. Старательно, без напряжения взялся за перемалывание сегодня. Мороз зарисовал стекла в доме. Чтобы увидеть, что находится снаружи, необходимо сперва «продышать» круглое окошечко в ледяных узорах. Потом приложить палец и чуть-чуть, всё выдыхая теплый воздух, проскрести морозную вязь, увеличить обзор. И грустно понять: на улице пугающая темнота, редкие огоньки фонарей и скрипучий снег. В такую погоду нам разрешено не бегать «до ветра». Для этого годится ведро с помоями. Мне через неделю стукнет семь. Прихожу в кухню. В дым. В тишину. Под раковиной стоит заветное ведро. В нем плавают луковичная шелуха, папины окурки, яичная скорлупа, конфетные фантики, обрывки газет… Мало ли чего ещё там плавает. И совсем неизвестно, что утонуло. Аккуратно журчу, чтобы брызги не попали на пол. Не то -- тряпку в руки и -- вперед. Дело сделано без брызг. Гордо оборачиваюсь. Папаня делает затяжку. Окурочек занимается красным. Кажется, секунда-другая и огонек чиркнет по желто-коричневым пальцам, по обкуренным ногтям. Мне становится больно от мысленного ожога. Дыхание застывает в груди. Но отец втыкает окурок в тяжелую хрустальную пепельницу -- подарок каких-то знакомых. Вздыхает:
-- Иди, ложись. Я тоже уже скоро…
На светло-седой обложке толстенной книги, батя дошел ее до середины, размашисто значится «Джозеф Конрад». Имя и фамилия – черным, а вот заглавные буквы -- красные.
Послушно иду в постель. За стенкой мама смотрит свои сны. Я закрываю глаза и надеюсь на сны собственные. В этот миг дверь щелкает язычком английского замка. Отец сбегает по крыльцу в морозец. Поскрипывет снег под ногами. Звук уводит за угол дома. В «домик» из серых досок. Отец споро вернется. Принесет с собой немного прохлады. Правда она мгновенно распластается в тепле наших двух комнат с картонными стенами. Останется лишь маленькая заплатка памяти о свежести. Но и она вскоре исчезнет под ластиком сна. Папаня нырнет под мамин бочок. Наверное, он тоже хочет увидеть ночные сюжеты. Свои собственные. Я думаю: «Почему нельзя смотреть вместе один и тот же сон?» Вопрос остается без ответа. Ночь качает мою лодку. Плыву куда-то вперед. В пугающую и интересную неизвестность. Скоро придет утро. В суете сборов на работу никто не заметит, что мы повзрослели. Ровно на одну ночь.
-- Ты нисколько не изменился за двадцать «с хвостиком» лет, -- шепчу отцу. Он молчит, но я чувствую его ответ. Мне не нужно слов. Они раздаются где-то внутри:
-- Здесь ничего не меняется так быстро, как у вас…
Он знает, что я уже пережил его по земному зимоисчислению. Но это лишь календарные условности. Есть нечто иное. Понять его пока не дано.
-- Рано. Рано еще, -- отдается во мне. И продолжается: Самое главное -- я рад за тебя.
Он поправляет волосы на лбу. Пальцы, которые, как мне казалось, предназначались для сигарет, совершенно не желто-коричневые. И даже привычного мозоля от авторучки на среднем -- нет. Дымка сна тает. С ней -- несколько голубых деревьев в отдалении, дорога под ними, небольшой пруд – невероятно похожий на пруд детства, трава позванивает блестками росы. «Мне пора», -- шепчет лишь глазами отец. В пространстве некоторое время брезжит колючая, словно крапива, белая кофта с пуговицами от ворота до самого низа…
Солнце полосует по глазам. Рука затекла и замерзла. Кажется, стукни -- зазвенит. Прячу ее под одеяло. Распахиваю веки и понимаю: на губах еще остался призрак теплой улыбки. Поднимаюсь потихоньку. Иду в кухню. Она совершенно не такая, как в детстве. Она наша -- с колокольчиками под потолком, с архангелогородской птицей счастья, всякими милыми мелочами по полочкам… Достаю из холодильника и режу сыр. Рядом с ним на блюдечко помещаю пару ломтиков лимона. Варю кофе. Расставляю на подносе чашки, блюдце, глиняную турку -- напиток подернут легкой пенкой. В глине из Афона у кофе особый привкус и аромат. И еще это -- признак неторопливости. Добавляю на поднос два бокала. В них -- «три звездочки» , на один глоток… Несу в комнату.
Там я легким поцелуем вырву жену из объятий того самого Морфея, который служит нашим разлучником на ночь. Она учует запах кофе еще на грани сна и яви. Еще за задернутыми шторками век и вуалью ресниц. Распахнет взгляд в сегодняшний мир. Обрадуется солнцу и новому дню. Удивится коньячным переливам в бокалах. Улыбнется и согласно кивнет на моё:
-- Но ведь мы в России…
Ноябрь-декабрь 2009

Александр Гуленко- Сообщения : 639
Дата регистрации : 2009-10-15
Возраст : 64
Откуда : Ставрополь
 Re: Александр Макаренков
Re: Александр Макаренков
МИРАЖИХА
Александр Макаренков
Меня не существует ровно столько, сколько времени прошло с пресловутого девяносто первого года. С того самого момента, когда моя родина исчезла со всех политических карт мира. Она сжалась как сухофрукт. Сморщилась. Скукожилась. Стала походить на княжество Московское с привнесённой в него Сибирью. Отвязалась от территорий, отказалась от городов, посёлков, деревень. Открестилась от своих граждан. Её тут же раздербанили на великие и не очень великие княжества. Растащили всё, что можно и невозможно. И до сей поры пытаются, по-старинке, вырвать из правопреемника, если не контрибуции или аннексии, то, по крайней мере, то, что реально продать соседям. При этом спешно запамятовали -- из какого котелка хлебали щи, когда назывались единой державой. И постарались забыть, что доставалась-то им похлёбка с мясом, в отличие от большого белого брата. На фоне этих неразберих, тяжб, разбирательств, препирательств, делёжек и обновлений -- сохранился лишь маленький я. Человечек в большой стране. Винтик в громадном механизме. Щепка в дремучем лесу. Искорка в пламени вселенского костра. И вот что удивительно -- нет меня сегодня. Нигде. Ни в каких реестрах. Ни в домовых книгах. Ни в списках последней переписи. Ни в квитанциях уплаты за пользование электричеством. Ни в кадастрах землепользователей. Только в избирательных бюллетенях иногда возникаю. По большому счёту, даже дом, в котором я живу, отсутствует на топографических картах нового образца. И деревня наша -- тоже. Если же задаться целью, найти подробные бумаги, к примеру, года сорок первого или сорок второго двадцатого столетия, на них немецкими буквами можно прочесть название деревни: «Miragicha». Немцы всегда были и остаются педантичными аккуратистами. Но нынче иные времена. На картах значится пространство с господствующей высотой в девяносто метров над уровнем моря и небольшие огрызки смешанного леса с болотом. Места моего упокоения, увы, тоже не отмечено. Я-то знаю, что я -- мёртвая душа, потому как -- нигде меня нет. Правда, если разобраться по-взрослому, утром просыпаюсь в собственной постели. Рядом -- жена. Она, моя Маша, из таких же, как я -- не существующих. Зиму, как принято с давних пор, перетягиваем на припасах, что сделали с осени. Спим дольше, нежели летом. Однако, хозяйство не бросаем. Иначе – не выживешь. И коровку подоить надо. И корм задать ей. И соседей навестить – поздравить с праздником. Ноябрьские отмечаем, Новый год, Рождество опять же. Без праздника душа черствеет. А так -- раззудится, разрезвится и -- дальше жить можно. И дорожку заметённую веселей чистить, и с крыши снежок сбросить -- радостней. К февралю привычно снаряжаю ружьишко и -- за зайчиком в лес. Порося уже доедаем, а мяска хочется... Как только стает снежок и земля прогреется, обычное дело, идём в огород -- перелопачиваем землю, сажаем картошечку, овощи, обихаживаем грядки с ягодами, собираем сморчки и строчки. ловим рыбку в нашей крохотной речушке. Опять же, -- чиню дом, подпираю забор или прилаживаю свежие штакетины вместо выстарившихся. Валю лес на дрова. Сосед, тоже -- безреестровый, привозит их на старом тракторке в мой двор. Я ему -- самогон в уплату. Если он просит подсобить в хозяйстве -- расплачивается тоже -- первачиком. В деревне из сорока дворов жилых осталось семнадцать. Так и живём помаленьку. В своём -- потустороннем мире. Что касается самогона -- гонят все. Употребляют -- тоже. Бывает, конечно, усугубляем. До зелёных человечков доходит. И -- ничего, справляемся. Не унываем. У соседей дети кто где подрабатывают: одни в райцентре, другие -- в соседнем селе, которое на карте нынче есть ещё. Наш Витюшка с семьёй получше -- в столице живёт. Помогают конечно. Деньги-то ещё никто не отменял. Пошлёт сынок, позвонит, что перевод сделал. Залезем в кондачок, достанем денежку -- пойдём на электричку. До платформы всего-то километра четыре с гаком, а там ещё полста. Всего-то делов! На почту наведаемся. Своё «довостребования» получим. Если есть нужда -- одежонку какую справим, нам-то не так много надо, как молодым. Не до модности. Из съестного прикупим сырку, колбаски недорогой -- побаловать себя. Или -- водочки бутылочку. Водочку тоже никто не запрещал.
Что касается станции -- её давно нет. Сократили за ненадобностью. Сегодня только бугорок на месте фундамента, на столбе табличка: «О.П. 427 км». Даже камня не осталось -- Васька наш сосед тихой сапой перевёз кирпичи во двор -- сарай соорудил. Славное получилось строение. Надёжное. Кассирша со станции в город подалась -- к детям. Смотритель к нам примкнул. Аккурат, бабка Матрёна приставилась, он в её хату и въехал. У бабки-то родни нет. Одна была, как перст. Всё с войны ждала Ванюшку своего. Не дождалась. И замуж не вышла. Верность хранила. Святая бабка. Теперь таких и не найти. Превратили паспорта в записные книжки: женился-развёлся-снова-женился. Только успевай штампы ставить и фамилии писать. Да и паспорта-то -- менять не успеваем. То одна форма, то другая проформа. Нет той весомой краснокожей паспортины, про которую стих Маяковский создал. И такая тоска порой берёт, что нет желания доставать из широких штанин…
Приезжие в деревню летом наведываются. Самозаселились в пустые дома. Мы им не мешаем, они -- нам. Ладим. Опять же, порой водочку привозят. И винишко для баб. Правда, бабы наши по большей части крепкое уважают. Зато тару, по всеобщей просьбе, выкладывают «квартиранты» вдоль дороги, что к станции идёт. В кювете. Очень удобно получается. Нужна бутылочка пустая -- подошёл, взял, сполоснул, наполнил. Опустела, сполоснул, -- обратно положил. Вот с банками проблемно. Им-то банки за ненадобностью. А нам -- варенье сварить или соленье какое закрыть-закатать. Городские выкладывают рядом с бутылками. Но бабы наши ухо держат востро и тара такого характера не залёживается…
Вот так-то, дорогой мой попутчик, и живём. Скоро два десятка лет, как нету нас на этой планете. Ни меня с моей Машенькой, ни соседа Васьки с его Катериной, ни ещё полутора десятков дворов. Помру? Дети не дадут мумифицироваться. Не фараоны мы. Не в жарких странах живём. Схоронят. Как узнают-то? Нынче мобильная связь у всех на руках. Дети да внуки нам, нет-нет, подбрасывают денежку на счёт. И все в курсе дел. Сам трубку не возьму, соседи отзвонятся. Тогда уж, по факту, отвезут на старое кладбище, которое почти заглотил лес. Другое волнует: «Примут ли там мою душу усопшую? Ведь ежели на земле нигде меня нет, значит, и на том свете могут не принять в ряды покойных? Как думаешь? Хотя, может и нету там ничего. Темнота и забвение. В этом случае -- всё одно, в прах обращаться».
А поезд отстукивает стыки размеренно и чётко. Иногда кренится на поворотах. Иногда натужно вздыхает, и тянется в гору. Он втягивается в очередную осень средней полосы - неброскую своим золотом берёз, краплаком клёнов, черными ветвями лип. Спокойную и умиротворённую. Мой рассказчик притих, уронил голову на сгиб локтя. Устал от столичного шума и суматохи. Натолкался в метро. Натаскался сумок и авосек. Задремал. Он скоро сойдёт на маленькой станции. Там дождётся электрички, чтобы снова окунуться в свою несуществующую деревню. В потустороннюю жизнь. В неумирущую свою Миражиху…
Чичиков, просеки эту ситуацию, должен немедленно материализоваться и, говоря современным штилем, «отдыхать». Напрягаться не надо. Лгать, изворачиваться. Вот оно -- счастье! Непаханое поле!
Только я подумал, как на перроне мелькнул самый настоящий Павел Иванович. Та же причёска, те же бачки. Одет, правда, по-современному -- в костюм строгий с галстуком. Пахнет от него дорогим парфюмом. Умом не постичь. Даже встряхнуться пришлось. Но он хитро переместился в двадцать первый век. Подмигнул. Быстро уловил момент возможности создания реноме в кривоколенном нашем обществе. Потёр радостно руки, и принялся за пополнение своих списков мёртвых душ. Выдумывать ничего не надо. Представься чиновником из областной администрации, который занимается переписью населения или участником новой избирательной компании… и дело в шляпе! И, что самое потрясающее -- платить никому не надо! Всё – даром! Все семнадцать дворов!
Эн Вэ Гоголь печально глянул с небес. Вздохнул горестно: «Ничего не изменилось. Как прежде -- воруют. Взятки дают и берут. Воспитывают хамов, чинопочитателей. Дураков становится больше. Дороги ветшают… Куда ты мчишься, Россия-тройка?», -- и поставил жирный знак вопроса конце фразы.
Октябрь 2009
Александр Макаренков
Меня не существует ровно столько, сколько времени прошло с пресловутого девяносто первого года. С того самого момента, когда моя родина исчезла со всех политических карт мира. Она сжалась как сухофрукт. Сморщилась. Скукожилась. Стала походить на княжество Московское с привнесённой в него Сибирью. Отвязалась от территорий, отказалась от городов, посёлков, деревень. Открестилась от своих граждан. Её тут же раздербанили на великие и не очень великие княжества. Растащили всё, что можно и невозможно. И до сей поры пытаются, по-старинке, вырвать из правопреемника, если не контрибуции или аннексии, то, по крайней мере, то, что реально продать соседям. При этом спешно запамятовали -- из какого котелка хлебали щи, когда назывались единой державой. И постарались забыть, что доставалась-то им похлёбка с мясом, в отличие от большого белого брата. На фоне этих неразберих, тяжб, разбирательств, препирательств, делёжек и обновлений -- сохранился лишь маленький я. Человечек в большой стране. Винтик в громадном механизме. Щепка в дремучем лесу. Искорка в пламени вселенского костра. И вот что удивительно -- нет меня сегодня. Нигде. Ни в каких реестрах. Ни в домовых книгах. Ни в списках последней переписи. Ни в квитанциях уплаты за пользование электричеством. Ни в кадастрах землепользователей. Только в избирательных бюллетенях иногда возникаю. По большому счёту, даже дом, в котором я живу, отсутствует на топографических картах нового образца. И деревня наша -- тоже. Если же задаться целью, найти подробные бумаги, к примеру, года сорок первого или сорок второго двадцатого столетия, на них немецкими буквами можно прочесть название деревни: «Miragicha». Немцы всегда были и остаются педантичными аккуратистами. Но нынче иные времена. На картах значится пространство с господствующей высотой в девяносто метров над уровнем моря и небольшие огрызки смешанного леса с болотом. Места моего упокоения, увы, тоже не отмечено. Я-то знаю, что я -- мёртвая душа, потому как -- нигде меня нет. Правда, если разобраться по-взрослому, утром просыпаюсь в собственной постели. Рядом -- жена. Она, моя Маша, из таких же, как я -- не существующих. Зиму, как принято с давних пор, перетягиваем на припасах, что сделали с осени. Спим дольше, нежели летом. Однако, хозяйство не бросаем. Иначе – не выживешь. И коровку подоить надо. И корм задать ей. И соседей навестить – поздравить с праздником. Ноябрьские отмечаем, Новый год, Рождество опять же. Без праздника душа черствеет. А так -- раззудится, разрезвится и -- дальше жить можно. И дорожку заметённую веселей чистить, и с крыши снежок сбросить -- радостней. К февралю привычно снаряжаю ружьишко и -- за зайчиком в лес. Порося уже доедаем, а мяска хочется... Как только стает снежок и земля прогреется, обычное дело, идём в огород -- перелопачиваем землю, сажаем картошечку, овощи, обихаживаем грядки с ягодами, собираем сморчки и строчки. ловим рыбку в нашей крохотной речушке. Опять же, -- чиню дом, подпираю забор или прилаживаю свежие штакетины вместо выстарившихся. Валю лес на дрова. Сосед, тоже -- безреестровый, привозит их на старом тракторке в мой двор. Я ему -- самогон в уплату. Если он просит подсобить в хозяйстве -- расплачивается тоже -- первачиком. В деревне из сорока дворов жилых осталось семнадцать. Так и живём помаленьку. В своём -- потустороннем мире. Что касается самогона -- гонят все. Употребляют -- тоже. Бывает, конечно, усугубляем. До зелёных человечков доходит. И -- ничего, справляемся. Не унываем. У соседей дети кто где подрабатывают: одни в райцентре, другие -- в соседнем селе, которое на карте нынче есть ещё. Наш Витюшка с семьёй получше -- в столице живёт. Помогают конечно. Деньги-то ещё никто не отменял. Пошлёт сынок, позвонит, что перевод сделал. Залезем в кондачок, достанем денежку -- пойдём на электричку. До платформы всего-то километра четыре с гаком, а там ещё полста. Всего-то делов! На почту наведаемся. Своё «довостребования» получим. Если есть нужда -- одежонку какую справим, нам-то не так много надо, как молодым. Не до модности. Из съестного прикупим сырку, колбаски недорогой -- побаловать себя. Или -- водочки бутылочку. Водочку тоже никто не запрещал.
Что касается станции -- её давно нет. Сократили за ненадобностью. Сегодня только бугорок на месте фундамента, на столбе табличка: «О.П. 427 км». Даже камня не осталось -- Васька наш сосед тихой сапой перевёз кирпичи во двор -- сарай соорудил. Славное получилось строение. Надёжное. Кассирша со станции в город подалась -- к детям. Смотритель к нам примкнул. Аккурат, бабка Матрёна приставилась, он в её хату и въехал. У бабки-то родни нет. Одна была, как перст. Всё с войны ждала Ванюшку своего. Не дождалась. И замуж не вышла. Верность хранила. Святая бабка. Теперь таких и не найти. Превратили паспорта в записные книжки: женился-развёлся-снова-женился. Только успевай штампы ставить и фамилии писать. Да и паспорта-то -- менять не успеваем. То одна форма, то другая проформа. Нет той весомой краснокожей паспортины, про которую стих Маяковский создал. И такая тоска порой берёт, что нет желания доставать из широких штанин…
Приезжие в деревню летом наведываются. Самозаселились в пустые дома. Мы им не мешаем, они -- нам. Ладим. Опять же, порой водочку привозят. И винишко для баб. Правда, бабы наши по большей части крепкое уважают. Зато тару, по всеобщей просьбе, выкладывают «квартиранты» вдоль дороги, что к станции идёт. В кювете. Очень удобно получается. Нужна бутылочка пустая -- подошёл, взял, сполоснул, наполнил. Опустела, сполоснул, -- обратно положил. Вот с банками проблемно. Им-то банки за ненадобностью. А нам -- варенье сварить или соленье какое закрыть-закатать. Городские выкладывают рядом с бутылками. Но бабы наши ухо держат востро и тара такого характера не залёживается…
Вот так-то, дорогой мой попутчик, и живём. Скоро два десятка лет, как нету нас на этой планете. Ни меня с моей Машенькой, ни соседа Васьки с его Катериной, ни ещё полутора десятков дворов. Помру? Дети не дадут мумифицироваться. Не фараоны мы. Не в жарких странах живём. Схоронят. Как узнают-то? Нынче мобильная связь у всех на руках. Дети да внуки нам, нет-нет, подбрасывают денежку на счёт. И все в курсе дел. Сам трубку не возьму, соседи отзвонятся. Тогда уж, по факту, отвезут на старое кладбище, которое почти заглотил лес. Другое волнует: «Примут ли там мою душу усопшую? Ведь ежели на земле нигде меня нет, значит, и на том свете могут не принять в ряды покойных? Как думаешь? Хотя, может и нету там ничего. Темнота и забвение. В этом случае -- всё одно, в прах обращаться».
А поезд отстукивает стыки размеренно и чётко. Иногда кренится на поворотах. Иногда натужно вздыхает, и тянется в гору. Он втягивается в очередную осень средней полосы - неброскую своим золотом берёз, краплаком клёнов, черными ветвями лип. Спокойную и умиротворённую. Мой рассказчик притих, уронил голову на сгиб локтя. Устал от столичного шума и суматохи. Натолкался в метро. Натаскался сумок и авосек. Задремал. Он скоро сойдёт на маленькой станции. Там дождётся электрички, чтобы снова окунуться в свою несуществующую деревню. В потустороннюю жизнь. В неумирущую свою Миражиху…
Чичиков, просеки эту ситуацию, должен немедленно материализоваться и, говоря современным штилем, «отдыхать». Напрягаться не надо. Лгать, изворачиваться. Вот оно -- счастье! Непаханое поле!
Только я подумал, как на перроне мелькнул самый настоящий Павел Иванович. Та же причёска, те же бачки. Одет, правда, по-современному -- в костюм строгий с галстуком. Пахнет от него дорогим парфюмом. Умом не постичь. Даже встряхнуться пришлось. Но он хитро переместился в двадцать первый век. Подмигнул. Быстро уловил момент возможности создания реноме в кривоколенном нашем обществе. Потёр радостно руки, и принялся за пополнение своих списков мёртвых душ. Выдумывать ничего не надо. Представься чиновником из областной администрации, который занимается переписью населения или участником новой избирательной компании… и дело в шляпе! И, что самое потрясающее -- платить никому не надо! Всё – даром! Все семнадцать дворов!
Эн Вэ Гоголь печально глянул с небес. Вздохнул горестно: «Ничего не изменилось. Как прежде -- воруют. Взятки дают и берут. Воспитывают хамов, чинопочитателей. Дураков становится больше. Дороги ветшают… Куда ты мчишься, Россия-тройка?», -- и поставил жирный знак вопроса конце фразы.
Октябрь 2009

Александр Гуленко- Сообщения : 639
Дата регистрации : 2009-10-15
Возраст : 64
Откуда : Ставрополь
 Похожие темы
Похожие темы» Встречая Новый год...
» Александр Белый - Стихи
» "Созвучья" Александр Гуленко
» Александр Гуленко "Пять коней"
» С днём рождения Александр Гуленко!!!
» Александр Белый - Стихи
» "Созвучья" Александр Гуленко
» Александр Гуленко "Пять коней"
» С днём рождения Александр Гуленко!!!
Наш костерок :: НАШЕ ТВОРЧЕСТВО :: Проза
Страница 1 из 1
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения